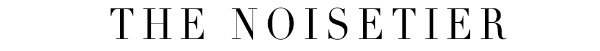В тот год, поздним летом, мы жили в деревенском доме, откуда открывался вид на горы, отделенные рекой и равниной...
Вот так просто, буднично и нисколько не изысканно открывается читателю «Прощай, оружие!», третий роман одного из величайших прозаиков предыдущего столетия — Эрнеста Миллера Хемингуэя.
Едва ли передо мной стоит задача анализировать литературный стиль и художественные привычки признанного классика. Такой сюжетный поворот, так или иначе, вывел бы нас на ущербную тропу низкопробной критики, чего я всей душой желал бы избежать. Пожалуй, следует начать с небольшого, но весьма информативного примечания. Оно поможет свести к минимуму «вкусовые» недоразумения, которые будут непременно сопровождать мой скромный нарратив.
Как человек, много лет претендующий на звание «поклонник Хемингуэя», я готов сделать заявление (основанное на сугубо субъективных, но не лишённых конструктивной мысли убеждениях), что Эрнест крайне не «рачителен», он до безобразия щедр с читателем. Возможно это следствие автобиографичности, но в каждой строчке своих произведений он словно нашептывает: «Это я! Отбросьте все ненужное и внемлите мне!». Эта тенденция постепенно все чаще сводится к очень «эгоцентричному фокусу», когда чрезмерно авторитетная (даже авторитарная) тень писателя громоздится над героями и затмевает их. Особенно характерно это свойство проявляется в антивоенных произведениях Хемингуэя, где гласом абсолютной гуманности выступает оратор вне переплёта. Разумеется, такая литературная тактика, если позволите, никоим образом не претворяется через навязчивые отступления и неуместные, но отменные в своём морализаторстве ремарки.
Эрнест действует изящней, свою позицию он терпеливо цедит сквозь детали, которые впрочем не слишком старается скрыть. И тем не менее, автор не просто самовыражается с помощью своих произведений, даже напротив, он адаптирует мир через призму собственных впечатлений, попутно трансформируя его с более удобоваримой для себя самого точки зрения. Так откровенное заигрывание с войной в рамках очень самобытных суждений Хемингуэя претерпевает неожиданную для тогдашнего времени метаморфозу. Эрнест наотрез отказывается воздвигать новые памятники насилию и клеймит его уничижительными эпитетами, весьма хладнокровно он стирает налёт героизма и живописует другую, более человечную версию минувших событий. Долой перламутровые эполеты и холёные офицерские физиономии! Он солидарен с надвигающимся поколением, но трактует пацифизм все же несколько иначе.
Но если быть совершенно откровенным, необходимо учитывать, что безусловное и безграничное «Я», которое царит на страницах книг Хемингуэя, не является чем-то безгрешным, или, если хотите, чем-то подобающим в условиях того или иного социального контекста. Писателю вовсе не чужда привольная романтика окопов, его персонажи зачастую орудуют многолетними патриархальными пороками и, если не кичатся этим, то уж точно не переживают катарсис относительно своих, прямо скажем, не слишком либеральных ценностей. Но важно заметить, что на момент написания большинства своих произведений взгляды Хемингуэя вполне удовлетворяли запросам аудитории. Особенно ярко это проявляется в облике протагониста. Главные герои Хемингуэя — не просто суррогаты, призванные несколько переиначить образ своего создателя (хотя отчасти это и так), чаще всего это самодостаточные мужчины в силу непредвиденных обстоятельств втянутые в конфликт. Их планомерное раскрытие проходит в двух направлениях:
1. Осознание уязвимости
Изначально центральные персонажи большей части Хемингуэевской прозы «неуязвимы», не слишком обаятельны, а порой и вовсе замкнуты и даже надменны. Но в процессе углубления их сюжетных линий, обезличенные фуражки слетают с сальных голов и обнажаются шрамы, травматические события, которые и спровоцировали напускное фатовство и цинизм, столь раздражающие читателя на первых порах (обычно, катализатором новообретения себя выступает очаровательная блондинка).
2. Кризис самоидентификации
Герои Хемингуэя всегда (!) оказываются поверх баррикад, даже если роют траншеи. Все без исключения поступки условного Роберта Джордана («По ком звонит колокол», 1940г.) — это попытка обрести себя. Он постоянно старается нащупать сторону, расположив к себе партизанский отряд или добившись безусловной преданности Марии, но вплоть до финала ему это не удаётся. Каждый свой поступок он подвергает сомнению и делает это столь рьяно, что иной раз забываешь: чьё перо созидало эти страницы? Эрнеста Хемингуэя или Рене Декарта?
Далее своевременно рассказать и о женских образах в романах Хемингуэя, то есть о самом критикуемом аспекте его творчества. Женские героини в основном выполняют исключительно утилитарные функции — они сопровождают протагониста-мужчину, прекрасно выглядят и олицетворяют собой начало нового этапа в жизненном пути своего компаньона. Зачастую женские сюжетные арки пропитаны ощущением фатальности и предвещают нечто неизбежное, роковой исход как для него, так и для неё. Но это вовсе не значит, что они лишены глубины или прописаны более поверхностно. Просто в сравнении с главными героями им уделяется меньше авторского внимания, которого (не скрою!) порой бывает недостаточно.
Особую грань писательского таланта Хемингуэя составляет очень самобытное восприятие летальности человека и его борьбы с ней. Смерть в его интерпретации не просто неопознанный феномен, она материальна и, не стесняясь, примеривает знакомые образы. Иными словами, она есть зловещий «доппельгангер» жизни. Но самое главное, что в рамках Хемингуэевской этики смерть можно одолеть. Каким образом? Заглянуть ей в глаза... совершить акт бесстрашия, это может быть крохотный эпизод, когда человек превозмогает ужас первой встречи с «двойником». Казалось бы, все то же самое: жизнь в ее неиссякаемом разнообразии, но за фасадом лишь смерть, которую необходимо осознать и принять. Родовые муки любимой женщины, отчаянная борьба с природной стихией или тягостное ожидание несокрушимого противника — все это индивидуальные условия игры с нулевой суммой, в которую играют все, но побеждают единицы.
Язык Эрнеста Хемингуэя — это киноязык. Он пишет визуальными образами и не слишком щепетилен с литературными законами. Его не волнуют высокий штиль или сложные синтаксические структуры, он запечатлевает жизнь словом, но не стремится чернильным трафаретом исказить ветхие бумажные страницы. Его восприятие объёмно, как фотография, как обветшалая пленка военной кинохроники. Оно хранит драгоценные воспоминания, а не изящность красивых слов, не безупречную идейную целостность, а живые характеры, не подробные портреты эпохи, а реальное ощущение трагедии повседневной реальности, которое можно прочувствовать по сей день.
Фото: @alice_gao
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО